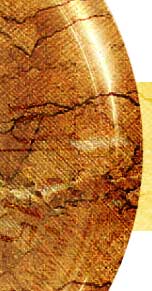ВИКТОР ПЕЛЕВИН
*
ЖЕЛТАЯ СТРЕЛА
Повесть
12
Андрея разбудил обычный утренний шум — бодрые разговоры в туалетной очереди, уже заполнившей коридор, отчаянный детский плач за тонкой стенкой и близкий храп. Несколько минут он пытался бороться с наступающим днем, но тут заработало радио. Заиграла музыка — ее, казалось, переливали в эфир из какой-то огромной общепитовской кастрюли.
“Самое главное, — сказал невидимый динамик совсем рядом с головой, — это то, с каким настроением вы входите в новое утро. Пусть ваш сегодняшний день будет легким, радостным и пронизанным лучами солнечного света — этого вам желает популярная эстонская певица Гуна Тамас”.
Андрей свесил ноги на пол и нащупал ботинки. На-соседнем диване похрапывал Петр Сергеевич — судя по энергичным рывкам его спины и зада, прикрытого простыней с треугольными синими штампами, он собирался провести в объятиях Морфея еще не меньше часа. Было видно, что Петру Сергеевичу нипочем ни утренний привет Гуны Тамас, ни коридорные голоса, но другим его воздушная кольчуга помочь не могла, и новый день для Андрея бесповоротно начался.
Одевшись и выпив полстакана холодного чая, он сдернул с крючка полотенце с вышитым двухголовым петухом, взял пакет с мыльницей и зубной щеткой и вышел в коридор. Последним в туалетной очереди стоял горец по имени Авель — на его большом круглом лице отчего-то не было обычного благодушия, и даже зубная щетка, торчавшая из его кулака, казалась коротким кинжалом.
— Я за тобой, — сказал Андрей, — а пока покурить схожу, ладно?
— Не переживай, — мрачно сказал Авель.
Когда за Андреем защелкнулась тяжелая дверь с глубоко вцарапанной надписью “"Локомотив" — чемпион” и небольшим заплеванным окошком, он вспомнил, что сигареты у него кончились еще вчера. К счастью, сразу за дверью сидел наперсточник, вокруг которого стояли несколько человек. Андрей стрельнул штуку “Дорожных” у одного из зрителей и встал рядом.
Наперсточник был старым и морщинистым, похожим на умирающую обезьяну, и пустая пивная банка для милостыни пошла бы ему куда больше, чем три коричневых стаканчика из пластмассы, которые он медленно водил по куску картона. Впрочем, это мог быть патриарх и учитель — ассистенты у него были очень внушительные и крупногабаритные. Их было двое, в одинаковых рыжих куртках, сшитых китайскими политзаключенными из на редкость паршивой кожи; они довольно правдоподобно ссорились, пихали друг друга в грудь и по очереди выигрывали у наставника новенькие пятитысячные бумажки, которые тот подавал им молча и не поднимая глаз.
Андрей отошел в сторону и прислонился к стене у окна. Радио угадало — день был и правда солнечный. Косые желтые лучи иногда касались приподнимающейся лысины наперсточника, клочковатые остатки седых волос на его голове на миг превращались в сияющий нимб, и его манипуляции над листом картона начинали казаться священнодействием какой-то забытой религии.
— Эй, — сказал один из ассистентов, поднимая голову, — ты чего дымишь? Тут и так воздух спертый.
Андрей не ответил. “Можно письмо в газету написать,— подумал он,— мол, братья и сестры, слышал я, у нас и воздух сперли”.
— Глухой? — окончательно выпрямляясь, повторил ассистент. Андрей опять промолчал. Ассистент был неправ по всем понятиям — территория здесь была чужая.
— Кручу, верчу, много выиграть хочу, — вдруг проскрипел наперсточник.
Видимо, это был условный знак — ассистент все понял, дернул головой и сразу же вернулся к прерванной перебранке с напарником. Андрей последний раз затянулся и кинул окурок им под ноги.
Очередь как раз подошла. Авель куда-то исчез, и перед Андреем осталась только женщина с грудным ребенком на руках. Против ожиданий, они управились очень быстро.
Закрыв за собой дверь, Андрей включил воду, поглядел на свое лицо в зеркале и подумал, что за последние лет пять оно не то что повзрослело или постарело, а скорее потеряло актуальность, как потеряли ее расклешенные штаны, трансцендентальная медитация и группа “Fleetwood Mac”. Последнее время в ходу были совсем другие лица, в духе предвоенных тридцатых, из чего напрашивалось множество далеко идущих выводов. Предоставив этим выводам идти туда в одиночестве, Андрей почистил зубы, быстро умылся и пошел к себе.
Петр Сергеевич уже проснулся и сидел у стола, почесываясь и перелистывая старый номер “Пути”, который Андрей выменял вчера у цыгана на банку пива, но так и не стал читать.
— С добрым утром, Андрей, — сказал Петр Сергеевич и ткнул пальцем в газету. — Вот пишут: существование снежного человека можно считать документально доказанным.
— С добрым утром, Петр Сергеевич, — сказал Андрей. — Ерунда это. Вы сегодня опять всю ночь храпели.
—Врешь. Правда, что ли?
— Правда.
— А ты свистел?
— Свистел, свистел, — ответил Андрей. — Еще как. Только без толку. Вы когда на спину переворачиваетесь, сразу начинаете храпеть, и потом уже все бесполезно. Лучше б вы себя привязывали, чтобы на боку лежать все время. Помните, как вы в прошлом году делали?
— Помню, — сказал Петр Сергеевич. — Я тогда моложе был. Сейчас мне так не уснуть. Ой, беда какая. Это все нервы у меня. Я ведь раньше, Андрюша, до реформ этих е..., никогда не храпел. Ну ничего, придумаем что-нибудь.
— Чего еще пишут? — кивая на газету, спросил Андрей: пока Петр Сергеевич не начал вспоминать о том, что было до реформ, его мыслям надо было дать какое-нибудь направление.
Водя пальцем по зеленоватому листу и однообразно матерясь, Петр Сергеевич принялся пересказывать передовую статью, а Андрей, кивая и переспрашивая, стал обдумывать свои планы на день. Сперва предстояло идти завтракать, а потом надо было зайти к Хану — к нему имелось какое-то смутное дело.
11
В ресторане, длинном и узком помещении с десятком неудобных столиков, было еще пусто, но уже пахло горелым, причем казалось, что сгорело что-то тухлое. Андрей сел на свое обычное место у окна, спиной к кассе, и, щурясь от солнца, поглядел в меню. Там были только пшенка, чай и коньяк азербайджанский. Андрей поймал взгляд официанта и утвердительно кивнул. Официант показал пальцами что-то маленькое, грамм на сто, и вопросительно улыбнулся. Андрей отрицательно помотал головой.
Горячий солнечный свет падал на скатерть, покрытую липкими пятнами и крошками, и Андрей вдруг подумал, что для миллионов лучей это настоящая трагедия — начать свой путь на поверхности солнца, пронестись сквозь бесконечную пустоту космоса, пробить многокилометровое небо — и все только для того, чтобы угаснуть на отвратительных останках вчерашнего супа. А ведь вполне могло быть, что эти косо падающие из окна желтые стрелы обладали сознанием, надеждой на лучшее и пониманием беспочвенности этой надежды — то есть, как и человек, имели в своем распоряжении все необходимые для страдания ингредиенты.
“Может быть, я и сам кажусь кому-то такой же точно желтой стрелой, упавшей на скатерть. А жизнь — это просто грязное стекло, сквозь которое я лечу. И вот я падаю, падаю, уже черт знает сколько лет падаю на стол перед тарелкой, а кто-то глядит в меню и ждет завтрака...”
Андрей поднял глаза на телевизор в углу и увидел какое-то примелькавшееся лицо, беззвучно открывающее рот перед тремя коричневыми микрофонами. Потом камера повернулась и показала двух человек, которые яростно толкались у другого микрофона, с бесстыдным русским фрейдизмом хватая друг друга за одинаковые рыжие галстуки.
Подошел официант и поставил на стол завтрак. Андрей посмотрел в алюминиевую миску. Там была пшенка и растаявший кусок масла, похожий на маленькое солнце. Есть совершенно не хотелось, но Андрей напомнил себе, что в следующий раз попадет сюда в лучшем случае вечером, и стал стоически глотать теплую кашу.
Появились первые посетители, и ресторан стал постепенно заполняться их голосами — у Андрея было такое ощущение, что на самом деле тишина оставалась ненарушенной, просто помимо нее появилось несколько притягивающих внимание раздражителей. Тишина была похожа на пшенку в его миске — она была такой же густой и вязкой; она деформировала голоса, которые звучали на ее фоне отрывисто и истерично. За соседним столом громко говорили о снежном человеке, которого будто бы видела вчера какая-то сумасшедшая старуха. Андрей сначала прислушивался к разговору, а потом перестал.
Напротив него уселся румяный седой мужчина в строгом черном кителе с небольшими серебряными крестиками на лацканах.
— Приятного аппетита, — сказал он, улыбнувшись.
— Да бросьте вы, — сказал Андрей.
— Что это вы такой мрачный? — удивленно спросил сосед.
— А вы чего такой веселый?
— Я не весел, — ответил сосед, — я радостен.
— Ну и я тоже, — сказал Андрей, —
не мрачен, а задумчив. Сижу и размышляю.
Доев кашу, он придвинул к себе стакан с чаем и принялся размешивать в нем сахар. Сосед продолжал улыбаться. Андрей подумал, что сейчас он опять заговорит, и стал крутить ложечкой быстрее.
— Думать, а иногда и размышлять, — сказал сосед, сделав дирижирующее движение рукой, — разумеется, полезно и в жизни весьма часто необходимо. Но все зависит от того, откуда этот процесс берет, так сказать, свое начало.
— А что, — спросил Андрей, — есть разные места?
— Вы сейчас иронизируете, а они между тем действительно есть. Бывает, что человек пытается сам решить какую-то проблему, хотя она решена уже тысячи лет назад. А он просто об этом не знает. Или не понимает, что это именно его проблема.
Андрей допил чай.
— А может, — сказал он, — это действительно не его проблема.
— У всех нас на самом деле одна и та же проблема. Признать это мешают только гордость и глупость. Человек, даже очень хороший, всегда слаб, если он один. Он нуждается в опоре, в чем-то таком, что сделает его существование осмысленным. Ему нужно увидеть отблеск высшей гармонии во всем, что он делает. В том, что он изо дня в день видит вокруг.
Он ткнул пальцем в окно. Андрей поглядел туда и увидел лес, далеко за которым, у самого горизонта, поднимались в небо три огромных, коричневых от ржавчины трубы какой-то электростанции или завода — они были такими широкими, что больше походили на гигантские стаканы. Андрей засмеялся.
— Чего это вы? — спросил сосед.
— Знаете, — сказал Андрей, — я себе сейчас представил такого огромного пьяного мужика с гармошкой, до неба ростом, но совсем тупого и зыбкого. Он на этой своей гармошке играет и поет какую-то дурную песню, уже долго-долго. А гармошка вся засаленная и блестит. И когда внизу это замечают, это называется отблеском высшей гармонии.
Сосед чуть поморщился.
— Все это, знаете, не ново, — сказал он. — Иерархия демиургов, несовершенный уродливый мир и так далее, если вас интересует историческая параллель. Гностицизм, одним словом. Но ведь счастливым он вас никогда не сделает, понимаете?
— Еще бы, — сказал Андрей, — слова-то какие страшные. А что меня сделает счастливым?
— К счастью путь только один, — веско сказал сосед и ковырнул вилкой в миске, — найти во всем этом смысл и красоту и подчиниться великому замыслу. Только потом по-настоящему начинается жизнь.
Андрей хотел было спросить, чьему именно замыслу надо подчиниться и какому из замыслов, но подумал, что в ответ на этот вопрос собеседник обязательно всучит ему какую-нибудь брошюру, и промолчал.
— Может, вы и правы, — сказал он, вставая из-за стола,— спасибо за беседу. Извините, у меня просто с утра настроение плохое. Вы, я вижу, очень образованный человек.
—
Так у меня работа такая, — сказал сосед. — Спасибо вам. А вот это возьмите на память.
Сосед протянул ему маленький цветной буклет, на обложке которого было нарисовано неправдоподобно розовое ухо, в которое влетала сияющая — видимо, с отблеском высшей гармонии — металлическая нота с двумя крылышками, примерно двенадцатого калибра. Поблагодарив, Андрей сунул буклет в карман и пошел к выходу.
Торопиться было некуда, но все равно он шел быстро, время от времени с извинениями задевая кого-нибудь из множества людей, бродивших, как и всегда в это время дня, по узким коридорам. Они глядели в окна, улыбались, и на их лицах дрожали пятна солнечного света. Отчего-то было необычно много молодых, но уже растолстевших женщин в турецких спортивных костюмах — вокруг них крутились молчаливые дети, занятые бессистемным изучением окружающего мира. Иногда рядом появлялись мужья в майках навыпуск; у многих в руках было пиво.
Андрей чувствовал, что наступивший день уже взял его в оборот и принуждает думать о множестве вещей, которые его совершенно не интересуют. Но сделать ничего было нельзя — голоса и звуки из окружающего пространства беспрепятственно проникали в голову и начинали перекатываться внутри, как шарики в лотерейном барабане, становясь на время его собственными мыслями. Сначала все заполняли несущиеся из невидимых динамиков инфернальные частушки, потом пришлось думать о какой-то Надежде, к которой придут после отбоя, потом стали передавать прогноз погоды, и Андрей начал коситься в проплывающие мимо окна, за которыми должен был усилиться южный ветер. Несколько раз он обходил кучки людей, склонившихся перед походным алтарем очередного наперсточника — больше всего поражало то, что все наперсточники и их ассистенты были очень похожи друг на друга и даже изъяснялись с одним и тем же южным выговором, словно это была особая народность, где с детства изучали искусство прятать под грязным ногтем большого пальца поролоновый шарик и передвигать по картонке три перевернутых стакана. Прошло еще несколько минут, и Андрей наконец остановился у двери из желтоватого пластика с цифрой “XV” и царапиной, похожей на обращенную вверх стрелу.
Хан был один — он сидел за столом, прихлебывал чай и глядел в окно. На нем, как обычно, был черный тренировочный костюм с надписью “Angels of California”, который всегда вызывал у Андрея легкие сомнения по поводу калифорнийских ангелов. Еще Андрей заметил, что Хан давно не брился и стал похож на Тосиро Мифунэ, входящего в очередной образ,— похож тем более, что из-за примеси монголоидной крови глаза у него были такими же раскосыми.
— Привет, — сказал Андрей.
— Привет. Закрой дверь. — А если соседи вернутся?
— Не вернутся, — сказал Хан.
Андрей закрыл дверь, и никелированный замок громко щелкнул. У него мелькнуло какое-то нехорошее предчувствие — щелчок замка напоминал звук передергиваемого затвора. Потом собственный страх показался ему смешным.
— Садись, — сказал Хан, кивая на место напротив. Андрей сел.
— Что нового? — спросил Хан.
— Так, — сказал Андрей. — Ничего. Ты когда-нибудь думал, куда делись последние пять лет?
— Почему именно пять?
— Цифра не имеет значения, — сказал Андрей. — Я говорю “пять”, потому что лично я помню себя пять лет назад точно таким же, как сейчас. Так же шатался тут повсюду, глядел по сторонам, думал то же самое. А ведь еще пять лет пройдет, и то же самое будет, понимаешь?.. Чего ты на меня так смотришь странно?
— Эй, — сказал Хан, — приди в себя.
— Да я вроде в себе. Хан покачал головой.
— Скажи-ка мне быстро, — проговорил он, — что такое желтая стрела? Андрей удивленно поднял глаза.
— Вот странно, — сказал он. — Я сегодня в ресторане как раз думал о желтых стрелах. Точнее, не о желтых стрелах, а так. О жизни. Знаешь, там скатерть была грязная, и на нее свет падал. Я подумал...
— Ну-ка встань.
— Зачем?
— Встань, встань, — повторил Хан и вылез из-за стола. Андрей поднялся на ноги, и Хан довольно грубо схватил его за воротник и несколько раз тряхнул.
— Вспомни, — сказал он, — почему ты сюда пришел?
— Убери руки, — сказал Андрей, — что ты, одурел? Я просто так зашел.
— Где мы находимся? Что ты сейчас слышишь?
Андрей отодрал его руки от своей куртки, недоуменно наморщился и вдруг понял, что слышит ритмично повторяющийся стук стали о сталь, стук, который и до этого раздавался все время, но не доходил до сознания.
— Что такое желтая стрела? — Повторил Хан. — Где мы? Он развернул Андрея к окну, и тот увидел кроны деревьев, бешено проносящиеся мимо стекла слева направо.
—Ну?
— Подожди, — сказал Андрей, — подожди. Он схватился руками за голову и сел на диван.
— Я вспомнил, — сказал он. — “Желтая стрела” — это поезд, который идет к разрушенному мосту. Поезд, в котором мы едем.
10
— Ты сейчас помнишь, что с тобой было? — спросил Хан.
— Уже плохо, — сказал Андрей. — Только в общих чертах. Вроде ничего особенного и не произошло. Как меня зовут, я знал, из какого я купе — тоже. Но это как будто был совсем не я. Я себя очень странно чувствовал — словно есть разница, в каком вагоне ехать. Словно у всего происходящего появилось бы больше смысла, если бы скатерть в ресторане была чистой. Или если бы по телевизору показывали другие хари, понимаешь?
— Можешь не объяснять, — сказал Хан. — Ты просто стал на время пассажиром.
Андрей отвернулся от окна и поглядел на стену тамбура, где была панель с двумя пыльными циферблатами и надписью “Проверять каждые...” (дальше был пропуск).
—Я и сейчас пассажир, —сказал он. —И ты тоже.
— Нормальный пассажир, — сказал Хан, — никогда не рассматривает себя в качестве пассажира. Поэтому если ты это знаешь, ты уже не пассажир. Им никогда не придет в голову, что с этого поезда можно сойти. Для них ничего, кроме поезда, просто нет.
— Для нас тоже нет ничего, кроме поезда, — мрачно сказал Андрей. — Если, конечно, не обманывать самих себя.
Хан усмехнулся.
— Не обманывать самих себя, — медленно повторил он. — Если мы не будем обманывать самих себя, нас немедленно обманут другие. И вообще, суметь обмануть то, что ты называешь самим собой, — очень большое достижение, потому что обычно бывает наоборот — это оно нас обманывает. А есть ли что-нибудь другое, кроме нашего поезда, или нет, совершенно не важно. Важно то, что можно жить так, как будто это другое есть. Как будто с поезда действительно можно сойти. В этом вся разница. Но если ты попытаешься объяснить эту разницу кому-нибудь из пассажиров, тебя вряд ли поймут.
— Ты что, пробовал? — спросил Андрей.
— Пробовал. Они не понимают даже того, что едут в поезде.
— Какой-то бред получается, — сказал Андрей. — Пассажиры не понимают того, что едут в поезде. Услышал бы тебя кто-нибудь.
— Но ведь они и правда этого не понимают. Как они могут понять то, что и так отлично знают? Они даже стук колес перестали слышать.
— Да, — сказал Андрей, — это точно. Это я на себе почувствовал. Я, когда в ресторан зашел, еще подумал — как тихо, когда нет никого.
— Вот именно. Тихо-тихо. Даже слышно, как ложечка в стакане звенит. Запомни: когда человек перестает слышать стук колес и согласен ехать дальше, он становится пассажиром.
— Нас никто не спрашивает, — сказал Андрей, — согласны мы или нет. Мы даже не помним, как мы сюда попали. Мы просто едем и все. Ничего не остается.
— Остается самое сложное в жизни. Ехать в поезде и не быть его пассажиром, — сказал Хан.
Дверь в тамбур распахнулась и вошел проводник. Андрей узнал своего соседа по столику в ресторане — только теперь он был в фуражке, а его китель с петлицами, на которых серебрились какие-то скрещенные молотки или разводные ключи, был расстегнут на выпуклом животе, и виднелась вязаная малиновая жилетка, надетая поверх форменной черной рубахи. Он рассеянно крутил вокруг ладони веревку с символом своей должности — ключом, маленьким никелированным цилиндром с крестообразной ручкой, который использовался в качестве кастета при общении с пьяными пассажирами или для открывания бутылок. Проводник тоже узнал Андрея, широко улыбнулся и приложил три сложенных щепотью пальца к козырьку.
— Чего это он скалится? — спросил Хан, когда проводник скрылся в вагоне,
— Так. За столом разговорились. А что делать, если это опять случится?
— Что? — спросил Хан. — Ты про проводника?
— Нет. Если я опять стану пассажиром.
— Надо просто перестать им быть, и все. Это со всеми нами иногда бывает.
— Что значит — со всеми нами? Нас что, здесь много?
— Я думаю, да, — сказал Хан. — Должно быть много, только мы друг друга не знаем. Раньше точно было много.
— Скажи, а от кого ты про все это первый раз узнал?
— Не знаю, — сказал Хан, — я их не видел.
— Как это? Как ты мог что-то узнать от тех, кого ты не видел?
— А вот так, — сказал Хан, и Андрей понял, что тот не собирается дальше развивать эту тему.
— Ну а где они сейчас? — спросил он.
— Я думаю, что они там, — сказал Хан и кивнул за окно, где плыло бесконечное поле, заросшее травой, по которой, как по воде, шли волны от ветра.
— Они умерли?
— Они сошли. Однажды ночью, когда поезд остановился, они открыли дверь и сошли.
— По-моему, ты что-то путаешь, — сказал Андрей. — “Желтая стрела” не останавливается никогда. Это все знают.
— Послушай, — сказал Хан, — опомнись. Пассажиры не знают, как называется поезд, в котором они едут. Они даже не знают, что они пассажиры. Что они вообще могут знать?
9
Как только Андрей открыл дверь, он понял, что в его вагоне что-то произошло. У входа в одно купе стояли несколько человек в темных костюмах; плакала пожилая женщина в черной шали. Радио не работало, зато из купе, где жил Авель, неслась тягостная музыка — играл маленький магнитофон. Андрей вошел к себе.
— Что случилось? — спросил он Петра Сергеевича.
— Соскин умер, — сказал Петр Сергеевич, откладывая книгу. — Сейчас похороны.
— Когда это?
— Вчера ночью. К Авелю теперь очередника подселяют.
— Вот он чего такой мрачный был, — сказал Андрей и посмотрел на книгу, которую читал Петр Сергеевич. Это был Пастернак, “На ранних поездах”.
— Да, — сказал Петр Сергеевич, — верно. Не получилось у него. Он сюда брата хотел переселить. Ты же понимаешь, один черножопый зацепится где-нибудь, а потом всех своих тащит. А бригадир документы посмотрел и говорит — он и так в купейном едет, а у нас в общих и плацкарте очередников полно. Хотя что-то я не очень верю, что он сюда кого-нибудь из плацкарты вселит. Просто Авель сунул мало, или не тому — вот ему прикурить и дали.
Андрей вспомнил, что так и не купил сигарет.
— Про что книжка? — спросил он.
— Так, — ответил Петр Сергеевич. — Про жизнь.
Он опять погрузился в чтение.
Андрей вышел в коридор. Из купе уже выносили тело, и он остановился у окна — протискиваться мимо скорбящих было не принято. Впрочем, процедура обычно не затягивалась.
Из открытой двери показался бледный профиль усопшего над краем оргалитового листа, который держали два проводника. Оргалитовый лист, специально использовавшийся для этих случаев, был с обеих сторон покрашен красной краской, обведен по краю черной каймой и больше всего походил на траурное знамя, так что было загадкой, почему в народе его прозвали подстаканником.
Покойник был по горло прикрыт старым малиновым одеялом. Откуда-то взявшийся Авель засуетился у окна, открывая его, — оно не поддавалось, и пара мужиков пришла ему на помощь. Вместе они оттянули раму вниз, и образовался просвет сантиметров в сорок. Женщина в темной шали сразу же стала громко кричать, и ее под руки увели в купе. Проводники осторожно подняли подстаканник, выдвинули его край за окно и стали выталкивать покойника наружу — делали они это медленно, чтобы не оскорбить присутствующих суетливостью. Был момент, когда Соскин чуть было не застрял — зацепилось одеяло на груди.
Сквозь окно, возле которого стоял Андрей, была видна мертвая голова с бешено развевающимися на ветру волосами — она неслась в трех метрах над насыпью, и ее наполовину закрытые глаза были обращены к небу, которое постепенно затягивали высокие синие тучи. Отодвигаясь от желтой стены вагона, голова несколько раз дернулась и стала медленно клониться вниз. Потом за стеклом мелькнул малиновый край одеяла, и внизу глухо стукнуло. Еще через секунду мимо окна пролетели подушка и полотенце — по традиции, их выбросили вслед за покойником.
Можно было идти за сигаретами, но Андрей все стоял и глядел в окно. Прошло несколько секунд. Вдруг зеленый склон оборвался, удары колес о стыки рельсов стали звонче, и мимо окна понеслись ржавые балки моста, за которыми была видна широкая голубая полоса неизвестной реки.
8
В ресторане играла музыка, та самая вечная кассета, где в конце был записан обрывающийся на середине “Bridge over troubled waters”. За одним из столиков Андрей заметил своего старого приятеля Гришу Струпина в модном твидовом пиджаке, к лацкану которого была прицеплена крылатая эмблема МПС — стоила она бешеных денег, но у Гриши они были. Еще при коммунистах он приторговывал по тамбурам сигаретами и пивом, а сейчас развернулся совсем широко. Напротив Гриши сидел какой-то коротко стриженный иностранец и ел из алюминиевой миски гречневую кашу с икрой. Заметив Андрея, Гриша призывно замахал руками, и через минуту Андрей втиснулся на свободное место рядом с ними. Гриша за последнее время стал еще более пухлым, веселым и кудрявым — или, может быть, так казалось, потому что он был уже немного пьян.
— Здорово, — сказал он. — Знакомьтесь. Андрей, друг зловещего детства. Иван, товарищ зрелых лет и партнер по бизнесу.
Это, значит, парень из эмигрантов, понял Андрей. Они молча пожали руки. Андрей огляделся по сторонам в поисках знакомых лиц. Их не оказалось, зато вокруг, как всегда по вечерам, было много пьяных финнов и арабов.
— Выпьем? — спросил Гриша.
Андрей кивнул, и Гриша налил из графина три больших рюмки “железнодорожной особой”.
— За наш бизнес, — поднимая рюмку, сказал Иван.
— Точно, — сказал Гриша и подмигнул Андрею. — Что это такое — бизнес, догадываешься?
— Догадываюсь примерно, — сказал Андрей, чокаясь. — По звучанию. “Бить”, “п...” и “без нас”. А вообще я последнее время много всяких слов слышу. “Бизнес”, “гностицизм”, “ваучер”, “копрофагия”.
— Кончай интеллектом давить, — сказал Гриша, — пей лучше.
— Да, Григорий, — сказал Иван, выпив и выдохнув, — совсем забыл. Слушай. Предлагают большую партию туалетной бумаги с Саддамом Хусейном. Она после войны осталась, а спрос упал. Очень дешево. Сколько она у вас может стоить?
— Стоить-то она может много, — сказал Гриша. — Но я тебе, Иван, могу сразу сказать, что заниматься этим нет мазы. Реальный рынок для туалетной бумаги очень маленький — только СВ. Из-за этого даже браться не стоит.
— А общие и плацкарта? — спросил Иван.
— В сидячих она вообще никогда не шла, а сейчас из-за инфляции плацкарта тоже на газеты переходит.
— Ну хорошо, — сказал Иван, — с плацкартой понятно. А купе? Ведь там тоже...
— Пока да, — ответил Гриша. — Но нам это без разницы. Никто новый, я тебе отвечаю, туда не втиснется.
— Почему? — спросил Иван. — А если ты дешевле продавать будешь?
— Да как же я смогу, Ваня? Ты бы “Файненшл таймс” пореже читал. Если я хоть один рулон дешевле продам, меня в окно живьем выбросят. Я говорю, мазы нет.
— Но нельзя же всю жизнь сигаретами и пивом заниматься, — закуривая, сказал Иван. — Надо на что-то крупнее переходить. Ты насчет алюминия выяснил?
— Да, — ответил Гриша. — Это, кажется, реально.
— Какая схема? — спросил Иван.
— Валюта —рубли —валюта —валюта —валюта, — сказал Гриша.
Иван на секунду сощурил веки, словно смотрел на что-то далекое и ослепительное.
— Ага, — сказал он, лынул из кармана маленький калькулятор и погрузился в вычисления.
— Это как? — тихо спросил Гришу Андрей. — Что за схема?
— Как, как. Платишь старшему проводнику, а он чайные ложки списывает. Это человек серьезный — берет только валютой. Условие такое — ложки надо переломать, потому что целые за погрантамбур не пропустят. И вообще, с ними проблемы могут быть. Стало быть, нужны ломщики. Берут они рублями, примерно десять процентов от того, что возьмет старший проводник. Эта часть называется валюта—рубли. И еще три раза надо валюту платить — в штабном вагоне, на погрантамбуре и рэкету.
— А как он считает? — прошептал Андрей, кивая на Ивана. — Откуда он знает, сколько кому надо платить?
— Так курс же печатают каждый день, — сказал Гриша. — Покупки и продажи. Ты вообще где живешь, а? У меня такое чувство, что ты из реального мира давно куда-то выпал. Тусуешься все с этим Ханом — это, кстати, кличка у него или имя?
— Имя, — сказал Андрей. — А кличка у него, если тебе интересно, Стоп-кран.
— Что это такое?
— Это такая штука на титане, — сказал Андрей, — чтобы пар выходил. Он раньше на титане работал, воду кипятил.
— Господи, — сказал Гриша, — на титане. Ты бы еще с официантом подружился.
Иван поднял голову.
— Нормально, — сказал он. — Будем делать. А как по латуни?
— Тяжелее, — ответил Гриша. — В принципе схема та же, но только все подстаканники на номерном учете. На каждый нужен отдельный акт по списанию. Это надо заместителю бригадира платить, а у меня на него прямого выхода нет. Я с одним его секретарем говорил, но он осторожный очень. Как про подстаканники услышал, сразу с базара съехал.
— По понятиям его провел? — спросил Иван.
— Нет пока. Он, похоже, ботаник.
— Ну хорошо, — сказал Иван. — С ложками начинай прямо завтра, а насчет латуни потом решим.
Он встал, вежливо попрощался и пошел к выходу. Гриша проводил его взглядом и повернулся к Андрею.
— Я у него в гостях был недавно, — сказал он. — Представляешь, в вагоне только три купе и в каждом отдельная ванна. Уровень жизни, конечно...
— А что это такое, — спросил Андрей, — уровень жизни?
— Брось, Андрей, — поморщившись, сказал Гриша. — Чего я не люблю, так это когда ты дураком прикидываешься. Давай лучше накатим.
— Давай. Слушай, скажи мне, только честно — тебе подстаканниками не страшно заниматься?
Гриша открыл было рот, чтобы ответить, но вдруг задумался и даже полуприкрыл глаза. Его лицо на несколько секунд стало неподвижным и мертвым — только кудрявые волосы шевелились в струе влетающего в открытое окно воздуха.
— Нет, не страшно, — сказал он наконец. — А чернуху, Андрюша, я от себя гоню.
— Хан, — сказал Андрей, — все-таки объясни мне. Как ты мог что-то узнать от тех, кого ты никогда не видел?
— Чтобы узнать что-то от человека, не обязательно его видеть. Можно получить от него письмо.
— Ты что, получил такое письмо? Хан кивнул.
— Ты можешь мне его показать? — спросил Андрей.
— Могу, — сказал он. — Но это надо долго идти.
С каждым вагоном на восток коридоры плацкарты становились все запущеннее, а занавески, отделявшие набитые людьми отсеки от прохода, все грязнее и грязнее. В этих местах было небезопасно даже утром. Иногда приходилось перешагивать через пьяных или уступать дорогу тем из них, кто еще не успел упасть и заснуть. Потом начались общие вагоны — как ни странно, воздух в них был чище, а пассажиры, попадавшиеся навстречу, как-то опрятнее. Мужики здесь ходили в тренировочной затрапезе, а женщины — в застиранных бледных сарафанах; сиденья были отгорожены друг от друга самодельными ширмами, а на газетах, расстеленных прямо на полу, лежали карты, яичная скорлупа и нарезанное сало. В одном вагоне сразу в трех местах пели под гитару — и, кажется, одну и ту же песню, гребенщиковский “Поезд в огне”, но разные части: одна компания начинала, другая уже заканчивала, а третья пьяно пережевывала припев, только как-то неправильно — пели “этот поезд в огне, и нам некуда больше жить” вместо “некуда больше бежать”.
— Кстати, насчет писем, — сказал Хан, подныривая под очередную веревку с бельем. — Ты и сам много раз их получал. Можно даже сказать, что ты их получаешь каждый день. И все остальные тоже.
— Не понимаю, о чем ты, — сказал Андрей. — Лично я никаких писем не получал.
— Ты когда-нибудь думал, почему наш поезд называется “Желтая стрела”?
— Нет, — ответил Андрей. — Я тебе, знаешь ли, поверил на слово.
— Подумай.
Голоса за разноцветными занавесками постепенно изменялись — стал заметен южный акцент. После тюремного вагона, где мимо запертых дверей ходил вооруженный проводник в ватнике и фуражке, начались полупомойки-полутаборы в невероятно переполненных общих вагонах, кишащих грязными цыганскими детьми, а потом пошли пустые вагоны — говорили, что раньше и в них кто-то ехал, но теперь там остались только голые лавки, изрезанные перочинными ножами, и стены с дырами от пуль и следами огня. Половина стекол в них была перебита, из дыр бил холодный ветер, а полы были завалены мусором — старой обувью, газетами и осколками бутылок. Андрей хотел уже спросить, долго ли еще идти, когда Хан обернулся.
— Почти пришли, — сказал он, — следующий тамбур. Так почему наш поезд так называется?
— Не знаю, — сказал Андрей. — Наверно, это что-то мифологическое. Может быть, ночью, когда все его окна горят, он со стороны похож на летящую стрелу. Но тогда должен быть кто-то, кто увидел его со стороны, а потом вернулся в поезд.
— Он похож на стрелу не только со стороны.
Они вышли в тамбур. Хан шагнул влево и молча открыл дверку, за которой зиял черный зев ржавой печки и изгибалась труба с манометром, на котором висела окостеневшая сухая тряпка. В последних вагонах перед границей уже давно не было горячей воды, а эту печку, было похоже, не топили лет десять, с самого начала Перецепки.
— В углу, — сказал Хан, — на стене. Зажги спичку.
Андрей втиснулся в темное узкое пространство и зажег спичку. На стене была выцарапанная на краске надпись, очень старая и еле заметная. Это было несколько предложений, написанных крупными печатными буквами, столбиком, словно стихи:
ТОТ, КТО ОТБРОСИЛ МИР, СРАВНИЛ ЕГО С ЖЕЛТОЙ ПЫЛЬЮ.
ТВОЕ ТЕЛО ПОДОБНО РАНЕ, А САМ ТЫ ПОДОБЕН СУМАСШЕДШЕМУ.
ВЕСЬ ЭТОТ МИР — ПОПАВШАЯ В ТЕБЯ ЖЕЛТАЯ СТРЕЛА.
ЖЕЛТАЯ СТРЕЛА, ПОЕЗД, НА КОТОРОМ ТЫ ЕДЕШЬ К РАЗРУШЕННОМУ
МОСТУ.
— Кто это написал? — спросил Андрей.
— Откуда я знаю, — сказал Хан.
— Но ты хотя бы догадываешься?
— Нет, — сказал Хан. — Да это и не важно. Я же говорю, писем вокруг полно — было бы кому прочесть. Например, слово “Земля”. Это письмо с таким же смыслом.
— Почему?
— Подумай. Представь себе, что ты стоишь у окна и смотришь наружу. Дома, огороды, скелеты, столбы — ну, короче, как интеллигенты говорят, культара.
— Культура, — поправил Андрей.
— Да. А большая часть этой культары состоит из покойников вперемешку с бутылками и постельным бельем. В несколько слоев, и трава сверху. Это тоже называется “земля”. То, в чем гниют кости, и мир, в котором мы, так сказать, живем, называются одним и тем же словом. Мы все жители Земли. Существа из загробного мира, понимаешь?
— Понимаю, — сказал Андрей. — Как не понять. Слушай, а ты когда-нибудь думал, откуда мы едем? Откуда идет этот поезд?
— Нет, — сказал Хан. — Мне это не особо интересно. Мне интересно узнать, как с него сойти. Ты у проводников спроси. Они тебе объяснят, откуда он идет.
— Да, — задумчиво сказал Андрей, — они объяснят, это точно.
— Идем назад?
— Я здесь постою немного. Догоню тебя минут через пять.
Когда Хан вышел, Андрей повернулся к окну. В этих местах он был первый раз. Странно, но из-за того, что вокруг не было людей, ему в голову приходили необычные мысли, которые никогда не посещали его где-нибудь в ресторане, хотя все необходимое для их появления было и там.
То, что он видел в окне, когда смотрел назад — участок насыпи, украшенный каким-нибудь уносящимся в прошлое кустом или деревом, — было точкой, где он находился секунду назад, и если бы вагон, в котором он ехал, был последним, то там остались бы только пустота и покачивающиеся ветки по бокам рельсов.
“Если бы все то, что существовало миг назад, не исчезало,— думал он, — то наш поезд и мы сами выглядели бы не так, как мы выглядим. Мы были бы размазаны в воздухе над шпалами. Мы были бы чем-то вроде переплетающихся друг с другом змей, а вокруг этих змей тянулись бы бесконечные ленты пластмассы, стекла и железа. Но все исчезает. Каждая прошлая секунда со всем тем, что в ней было, исчезает, и ни один человек не знает, каким он будет в следующую. И будет ли вообще. И не надоест ли Господу Богу создавать одну за другой эти секунды со всем тем, что они содержат. Ведь никто, абсолютно никто не может дать гарантии, что следующая секунда наступит. А тот миг, в котором мы действительно живем, так короток, что мы даже не в состоянии успеть ухватить его и способны только вспоминать прошлый. Но что тогда существует на самом деле и кто такие мы сами?”
Андрей увидел в стекле свое прозрачное отражение и попытался представить себе, как оно исчезает, а на его месте появляется другое, и так без конца.
“Я хочу сойти с этого поезда живым. Я знаю, что это невозможно, но я этого хочу, потому что хотеть чего-нибудь другого просто сумасшествие. И я знаю, что эта фраза — “я хочу сойти с поезда живым” — имеет смысл, хотя слова, из которых она состоит, смысла не имеют. Я даже не знаю, кто такой я сам. Кто тогда будет выбираться отсюда? И куда? Куда я могу выбраться, если я даже не знаю, где нахожусь — там, где я начал это думать, или там, где кончил? А если я скажу себе, что я нахожусь вот здесь, то где будет это здесь?”
Он снова поглядел в окно. Уже почти стемнело. По краям пути иногда возникали белые километровые столбики, отчетливо видные в сумраке и похожие на маленьких каменных часовых.
6
Андрей развернул свежий “Путь” на центральном развороте, где была рубрика “Рельсы и шпалы”, в которой обычно печатали самые интересные статьи. Через всю верхнюю часть листа шла жирная надпись:
ТОТАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Устроившись поудобнее, он перегнул газету вдвое и погрузился в чтение:
“Стук колес, сопровождающий каждого из нас с момента рождения до смерти — это, конечно, самый привычный для нас звук. Ученые подсчитали, что в языках различных народов имеется примерно двадцать тысяч его имитаций, из которых около восемнадцати тысяч относится к мертвым языкам; большинство из этих забытых звукосочетаний даже невозможно воспроизвести по сохранившимся скудным, а часто и не расшифрованным записям. Это, как сказал бы Поль Саймон, songs, that voices never share. Но и существующие ныне подражания, имеющиеся в каждом языке, конечно, достаточно разнообразны и интересны — некоторые антропологи даже рассматривают их на уровне метаязыка, как своего рода культурные пароли, по которым люди узнают своих соседей по вагону. Самым длинным оказалось выражение, используемое пигмеями с плато Каннабис в Центральной Африке, оно звучит так:
“У-ку-лэ-лэ-у-ку-ла-ла-о-бэ-о-бэ-о-ба-о-ба”.
Самым коротким звукоподражанием является взрывное “п”, которым пользуются жители верховьев Амазонки. А вот как стучат колеса в разных странах мира.
В Америке — “джинджерэл-джинджерэл”.
В странах Прибалтики — “па-дуба-дам”.
В Польше — “пан-пан”.
В Бенгалии — “чуг-чунг”.
В Тибете — “дзог-чен”.
Во Франции — “клико-клико”.
В тюркоязычных республиках Средней Азии — “бир-сум”, “бир-сом” и “бир-манат”.
В Иране — “авдаль-халлаж”.
В Ираке — “джалал-идди”.
В Монголии — “улан-далай”. (Интересно, что во Внутренней Монголии колеса стучат совсем иначе — “ун-гер-хан-хан”.)
В Афганистане — “накшбанди-накшбанди”.
В Персии — “карнак-зебуб”.
На Украине — “rpix-тарарух”.
В Германии — “вриль-шрапп”.
В Японии — “додеска-дзен”.
У аборигенов Австралии — “тулуп”.
У горских народов Кавказа и, что характерно, у басков — “дарлан-бичесын”.
В Северной Корее — “улду-чу-чхе”.
В Южной Корее — “дулду-кван-ум”.
В Мексике (особенно у индейцев уичотль) — “тональ-нагваль”.
В Якутии — “тыдын-тыгыдын”.
В Северном Китае — “цао-цао-тан-тиен”.
В Южном Китае — “дэ-и-чань-чань”.
В Индии — “бхай-гхош”.
В Грузии — “коба-цап”.
В Израиле — “таки-бац-бубер-бум”.
В Англии —“клик-о-клик” (в Шотландии —“глюк-о-клок”).
В Ирландии —“бла-бла-бла”.
В Аргентине...”
Андрей перевел взгляд в самый низ страницы, где длинные столбцы перечислений заканчивались коротким заключительным абзацем:
“Но, конечно, красивее, задушевнее и нежнее всего колеса стучат в России — “там-там”. Так и кажется, что их стук указывает в какую-то светлую зоревую даль — там она, там, ненаглядная...”
В дверь постучали, и Андрей рефлекторно схватился за рукоять замка, чуть не свалившись с унитаза.
— Скоро ты там? — спросил голос в коридоре.
— Сейчас, — сказал Андрей и смял газету в неровный ком. Там-там — стучали колеса под мокрым заплеванным полом, там-там, там-там, там-там, там-там, там-там, там-там, там-там...
В соседнем вагоне была пробка — там шли похороны. Мимо пропускали, но толпа двигалась очень медленно, подолгу застывая на месте.
— Бадасов умер, — сказал рядом чей-то голос.
Перед Андреем стояла неспокойная девочка с огромными грязными бантами в волосах. Стуча кулаком в стекло, она глядела в окно, иногда поворачиваясь к стоящей рядом матери, одетой в турецкий спортивный костюм.
— Мама, — спросила вдруг она, — а что там?
— Где там? — спросила мама.
— Там, — сказала девочка и ткнула кулаком в окно.
— Там там, — с ясной улыбкой сказала мама.
— А кто там живет?
—Там животные, —сказала мама.
— А еще кто там?
— Еще там боги и духи, — сказала мама, — но их там никто не видел.
—А люди там не живут? —спросила девочка.
— Нет, — ответила мама, — люди там не живут. Люди там едут в поезде.
—А где лучше, —спросила девочка, — в поезде или там?
—Не знаю, —сказала мама, —там я не была.
— Я хочу туда, — сказала девочка и постучала пальцем по стеклу окна.
— Подожди, — горько вздохнула мать, — еще попадешь. Пьяные проводники наконец управились с подстаканником, труп шмякнулся о землю, подпрыгнул и покатился вниз по откосу. Вслед полетели подушка, полотенце, два красных венка и мраморное пресс-папье — покойный, судя по всему, был человек заметный.
— Я хочу туда-а, — пропела девочка на несуществующий мотив, — там-там, где боги и духи, там-там, живут на свободе...
Мать дернула ее за руку, приложила палец к губам и, сделав страшные глаза, кивнула на толпу скорбящих. Заметив, что Андрей смотрит на девочку, она подняла на него глаза и чуть выгнула брови, как бы приглашая на вершину годов, прожитых неким абстрактным Вахтангом Кикабидзе, чтобы снисходительно улыбнуться оттуда трогательной детской наивности.
— Чего это вы на меня так смотрите, — сказал женщине Андрей, — я, может, тоже туда хочу.
— Это что, — спросила женщина, — в снежные люди, что ли?
Андрей вспомнил цепочку следов на снегу за окном, которую год назад видел из окна ресторана — это явно были отпечатки ботинок, несколько десятков метров тянувшиеся вдоль пути, а затем совершенно неожиданно прервавшиеся, словно тот, кто их оставил, растворился в воздухе.
5
Над столом горела лампа, и Петр Сергеевич пил свой вечерний чай. Он подносил к губам аккуратно обмотанный вафельным полотенцем стакан, дул в него и громко чмокал губами. Чай он всегда пил с легким отвращением, словно целовался с женщиной, которую уже давно не любит, но не хочет обидеть невниманием.
— Судить их надо, — вдруг сказал он. — Судить надо этих сволочей, вот что я тебе скажу.
— Кого? — спросил Андрей. Он лежал на своем месте, заложив руки за голову, и глядел в потолок, по которому ползла какая-то живая черная точка.
— Всех, — сказал Петр Сергеевич и почему-то перешел на шепот. — Весь штабной вагон, начиная с бригадира. Ты посмотри, что делается. Ложек уже нет, привыкли. Ладно. А теперь подстаканники. Где подстаканники, а? Скажи мне, где подстаканники?
— Украли, надо думать, — сказал Андрей.
—
А воры кто? — вскричал Петр Сергеевич тоном Чацкого, устраивающего, очередное разоблачение в тамбуре вагона Фамусовых. — Да и не просто воры уже. Это раньше воровали. А теперь — знаешь как это называется? Родиной торгуют, вот что.
— Да бросьте вы, — сказал Андрей. — Вы же не в подстаканнике родились. И не в ложке.
— Не в ложке. Да ты что думаешь, мне ложек твоих жалко? Мне девочек жалко, чистых наших девочек, ласточек этих синеглазых, которые в плацкарте себя всякой мрази продают, понял?
Андрей промолчал.
— Воруют нагло, — сказал Петр Сергеевич, успокаиваясь. — Ничего не боятся. Власть потому что ихняя.
— Такого, чтоб не воровали, тут никогда не было, — сказал Андрей. — Нынешние хоть в окна живыми никого не кидают. В запертую дверь купе сильно постучали.
— Кто там? — спросил Андрей.
— Андрей, это я! — крикнул голос из-за двери. — Открой быстрее! Голос был Гришин. Андрей вскочил на ноги, открыл дверь, и Гриша, скользнув внутрь, сразу же запер ее за собой. Его лицо было в крови, а пиджак испачкан в нескольких местах. Андрей заметил, что на его лацкане уже нет крылатой эмблемы МПС, а на ее месте зияет рваная дыра.
— Что случилось? — спросил он, усаживая Гришу на диван.
— Напали, — сказал Гриша. — Иду я, значит, из ресторана, один. Уже почти до дома дошел, и тут — представляешь? В переходе между вагонами. Четверо их было. Двое спереди и двое сзади. А у одного, сука, ложка заточенная.
— Много отняли-то?
— Много, — сказал он, — не спрашивай. Сегодня с Иваном расчет был — все забрали. Козлы. Ботаники.
Андрей намочил из графина вафельное полотенце и протянул его Грише.
— Что, — спросил он, — не заплатил вовремя?
— Да при чем тут это, — сказал тот, прикладывая полотенце к скуле. — Это урла какая-то залетная. Не знают, на кого наехали. Ну да я завтра всех тут на уши поставлю.
— Может быть, навел кто-нибудь?
— Ты что, — сказал Гриша. — Кроме Ивана, никто про это и не знал. А ему это незачем. Я же тебе говорю, просто урла.
Петр Сергеевич, до этого деликатно прятавший лицо за газетой, высунулся и сказал:
— Вот так, Андрей. Вот так. Говоришь, нынешние из окон не кидают? А надо кидать. Вот именно как раньше делали — руки-ноги вязать и головой вниз на шпалы. Публично. Тогда и чай будет сладкий, и вежливость в коридоре. И друга твоего никто тронуть не посмеет.
— А вы не боитесь, что вас самого выкинут? — спросил Андрей.
— Меня-то за что? Я всю жизнь честно работал. Ты пройди по купейным вагонам — половина дверей вот этими руками поставлена. Я при всякой власти нужен.
— Двери? — оживился Гриша. — Простите, вас как звать? Петр Сергеевич, очень приятно. А я Григорий Струпин, директор совместного предприятия “Голубой вагон”.
Петр Сергеевич пожал протянутую ему руку, улыбнулся и поправил воротник.
— Извините за мой внешний вид, — сказал Гриша, широко улыбаясь разбитым ртом и косясь на свой изуродованный лацкан, — так обстоятельства сложились. Мне как раз нужна небольшая консультация насчет дверей. Понятно, не бесплатная — потом по договору проведем.
— Ну, если смогу, — проговорил Петр Сергеевич.
— Скажите, а замки на дверях действительно из никеля?
— Нет, — сказал Петр Сергеевич, — понимаете ли, никелевое только покрытие. А сами замки...
— Слышь, Гриша, — сказал Андрей, — вы тут поговорите пока, а я по коридору пройдусь. Посмотрю на всякий случай, ждет тебя кто-нибудь или нет.
Он закрыл за собой дверь.
Коридор был безлюден. Андрей дошел до его конца и выглянул в тамбур — там никого не оказалось. С другой стороны вагона было то же самое. Он вернулся к двери в свое купе и услышал за ней оживленный голос Гриши и уклончивое хмыканье Петра Сергеевича. Несколько секунд постояв у порога, он пошел по вагону дальше, остановился у плексигласового кармана на стене и вытащил из него неизвестную брошюру. На обложке была фотография автора, усатого мужчины, похожего на сильно похудевшего, поумневшего и протрезвевшего Ницше, а называлась брошюра “Путеводитель по железным дорогам Индии”. В ней не хватало примерно половины страниц, сорванных с мясом со скрепок. Андрей остановился на освещенной площадке перед тамбуром, поставил ногу на треугольную крышку мусорного бака, прислонился плечом к окну и стал читать тот лист, которому предстояло покинуть книгу следующим:
“...советовал мне преподобный Шри Бававсенаху, я задал себе этот вопрос. Ответ пришел почти сразу — сколько я себя помню, больше всего в жизни я люблю подолгу стоять у открытого окна в коридоре, поставив ногу на треугольную крышку мусорного бака, высунув наружу локти и глядя на несущуюся мимо стену джунглей. Иногда приходится прижиматься плечом к стеклу, пропуская идущих в тамбур, и тогда я вспоминаю, что стою у окна мчащегося по Индии вагона, а все остальное время даже не очень понятно, что происходит и с кем. Не замечали ли вы, дорогой читатель, что когда долго глядишь на мир и забываешь о себе, остается только то, что видишь: невысокий склон в густых зарослях конопли (которую, стоит поезду замедлить ход, рвут специальными палками из соседних окон), оплетенная лианами цепь пальм, отделяющая железную дорогу от остального мира, изредка река или мост в колониальном стиле или защищенная стальной рукой шлагбаума пустая дорога. Куда в это время деваюсь я? И куда деваются эти деревья и шлагбаумы в то время, когда на них никто не смотрит?
Да какая мне разница. Важно ведь совсем другое. Ближе всего к счастью — хоть я и не берусь определить, что это такое — я бываю тогда, когда отворачиваюсь от окна и краем сознания — потому что иначе это невозможно — замечаю, что только что меня опять не было, а был просто мир за окном, и что-то прекрасное и непостижимое, да и абсолютно не нуждающееся ни в каком “постижении”, несколько секунд существовало вместо обычного роя мыслей, одна из которых, подобно локомотиву, тянет за собой все остальные, обволакивает их и называет себя словом “я”. Опять слышен трубный клич далекого слона, вероятно белого — счастлив ли...”
——Эй!
Андрей поднял глаза. Перед ним стоял Гриша
— Ну чего? Кого-нибудь видел?
— Нет, — ответил Андрей. — Ты бы посидел еще полчаса на всякий случай.
— Нет, — сказал Гриша, — пойду. Сосед у тебя полезный мужик оказался. Я с ним завтра утром встречу назначил. Ну пока.
— Пока.
Гриша исчез за дверью тамбура. Андрей закрыл брошюру, сунул ее в карман и пошел к себе в купе.
Минут через пять, когда уже был выключен свет и он изо всех сил старался
успеть заснуть до того момента, когда Пе